Перечитывая Достоевского, нельзя не
заметить, как далеко увели российскую словесность от собственно
литературы ее великие авторы. Особенно это бросается в глаза, если
читать Достоевского медленно, чему сам писатель отчаянно противится. Как
только мы делим текст на цитаты, как только вырываем из стремительного
потока повествовательной стихии фразу-другую, тут же сквозь красочный
слой начинает проглядывать голый холст. Обнажается каркас, собранный из
обломков дешевой мелодрамы, которую в изобилии поставляли Достоевскому
современники.
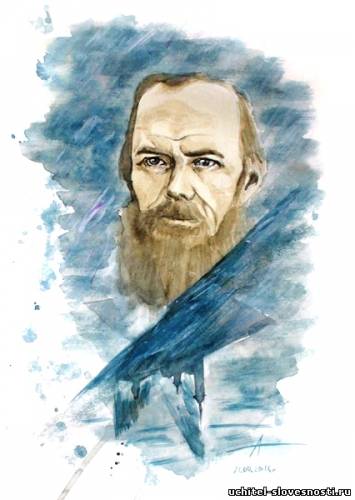
Каждый раз, когда Достоевский оставляет
свои образчики в нетронутом виде, мы видим, «из какого сора» вырос его
гений. Достоевский никогда не пропускает случая прибегнуть к сильным
эффектам. И когда их накапливается уж слишком много, то выходят
душераздирающие сцены, вроде кончины Мармеладова, где огарок свечи
заботливой светотенью подчеркивает мелодраматизм эпизода. Таких сцен
было немало как раз в той западноевропейской мещанской драме, над
которой так издевался сам автор.
Достоевский не так уж редко использовал
самые незатейливые средства изобразительности. Например, мать
Раскольникова, про которую сказано: «вид какого-то достоинства, что
всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье», кажется, сошла со
страниц Конан-Дойля или Жюля Верна. (Просто потому, что, пожалуй,
только эти двое добрались из прошлого века в нынешний, сохранив для нас
стиль тогдашней второразрядной беллетристики). Поразительно, но в
«Преступлении и наказании» – в одном из самых сложных романов в мире –
читателю не стоит большого труда отделить положительных персонажей от
отрицательных. Плохие – всегда толстые, хорошие – тонкие.
Если, скажем, в описании дурака
Лебезятникова мы отмечаем его «худосочность», то неизбежным становится и
благородный поступок, совершить который Лебезятникову не помешают
никакие вредные и пошлые заблуждения. И действительно, именно он спасает
Соню от навета Лужина.
Напротив, Лужин, появляющийся в романе
без указания на комплекцию, перед своим окончательным посрамлением
сопровождается замечанием автора о «немного ожиревшем за последнее время
облике».
Избыточность эффектов, все плоское,
однозначное, непроработанное в романе – идет от литературы. Все
остальное – от Достоевского. Он выдавливал из своей прозы память о
жанре, породившем ее. И только в тех местах, где остались
сентиментальные окаменелости, Достоевский принадлежит своему времени.
Дело в том, что в поэтике Достоевского
цельность личности – тяжелая болезнь, симптомом которой является
художественная неубедительность образа.
Самый «больной» персонаж в романе –
Лужин, единственный не заслуживший снисхождения грешник в книге.
Характерно, что с Лужиным даже никто не спорит. «Этот человек» не входит
в идеологический круг романа потому, что Лужин целен, внутренне
непротиворечив. Он, собственно, не является личностью. Как
классицистский персонаж, он исчерпывается одной чертой – Лужин любит
«свои деньги: они равняли его со всем, что было выше его».
Из-за денег, из-за простодушного
отношения к ним (Лужин их просто тратит, например, на мебель) он
выпадает из романа. Достоевский брезгует вдаваться в анализ лужинских
мотивов.
В его мире цельность личности –
смертельный недуг, непрошенный грех. У Достоевского только разность
потенциалов в душе каждого человека – источник повествовательной и
идеологической энергии.
Достоевскому, писателю, одержимому судом, нужен не ангел и не демон, а подсудимый.
Юридический, так сказать, мотив его
творчества,– а Достоевский написал сотни страниц на эту тему, не говоря
уже о том, что в «Преступлении и наказании» (название годится и для
учебника) половина героев юристы,– определяется возможностью изображать
суд.
Суд – это орудие справедливости,
осуществляемой через бездушный закон. Однако для Достоевского понятие
юридической справедливости – всего лишь частный вариант равенства: перед
законом все равны. Этому бездушному, языческому идеалу революции он
противопоставляет образ вселенского братства, такого братства, которое
исключает понятие вины и потому не нуждается в справедливости.
Для Достоевского любой суд не прав,
кроме одного – Страшного. Противоречие между судом и Страшным судом и
составляет генеральный – и гениальный – конфликт всего его творчества.
Достоевский сумел слить два этих
несовместимых понятия в одно. Суд в его книгах – это беспристрастный
анализ психологической действительности, рассмотрение мотивов и
поступков. Но суд это еще и разоблачение неправильных идей ради одной
правильной. Это путь к истине, который совершается через преодоление
лжи.
Знаменитое положение о многоголосии
Достоевского можно толковать и таким образом: все участники
идеологического диалога представляют неверные идеи. Достоевский
действительно дает высказаться каждому, но лишь для того, чтобы они себя
опровергли. Ни один из его героев не располагает истиной, также,
впрочем, истины нет и в совокупности всех «правд». (Из-за этого в романе
Достоевского не может быть настоящего финала – только смерть героя, или
как в «Преступлении и наказании», обещание «нового рассказа».)
Тем не менее, незнание истины не мешает
людям вершить суд. Они претендуют на высшую справедливость, располагая
при этом лишь законом. Однако высшая справедливость по Достоевскому –
прерогатива только одного суда: Страшного, который наступит в конце
времен, тогда, когда будет изжита вся неправда. Разоблачая неправду,
Достоевский приближает этот апокалипсический конец. Поэтому, чем
противоречивей его герой, чем больше в нем ложного, тем важнее его роль.
Тень Страшного суда полностью изменяет
реальность в романах Достоевского. Каждая мысль, каждый поступок в нашей
земной жизни отражается в другой, вечной жизни. Но при этом Достоевский
уничтожает границу между верхом и низом. Мир, который он изображает,–
един. Он одновременно является сиюминутным и вечным. То есть, суд и
Страшный суд – все-таки одно и то же.
Только преодолев это логическое противоречие, мы можем принять особый реализм «Преступления и наказания».
Вопреки очевидности, преступление
Раскольникова не есть результат его свободного выбора. Раскольников –
жертва авторского произвола. Он обречен на убийство только потому, что
для суда необходим подсудимый.
Раскольников попал в капкан. Вселенная
вокруг него замкнулась в клубок, выход из которого – только через
убийство. Автор провоцирует своего героя всеми способами. Тут и встреча с
Мармеладовым, и письмо матери, и падшая девица на бульваре, и бедность,
конечно. Однако все это – внешние причины, которые легко можно было бы
преодолеть, если бы Достоевский тому не мешал. Он свернул вокруг героя
время, заставив его жить в каком-то судорожно торопливом измерении.
(Житейски рассуждая, всего через неделю Раскольникову просто не
понадобилось бы убивать – его семейные проблемы решились бы сами собой
благодаря щедрому завещанию Марфы Петровны).
Мотивы преступления Раскольникова автор
тщательно разоблачает впоследствии. Прежде всего, деньги. Паутина
мелочных, унизительных расчетов окутывает Раскольникова только до
убийства, но не после. Хотя он и не воспользовался награбленным, ему уже
больше не придется выгадывать копейки – на все хватит, в том числе, и
на благотворительность (похороны Мармеладова). Как ни странно, деньги в
романе вообще существуют как условность. С одной стороны – те пятаки,
которые ничего не меняют (их нищий Раскольников и не считает). С другой –
некий капитал как законченная, разовая сумма, которая не делится и не
копится, а существует в идеальном представлении – капитал как средство,
но не цель.
Нищета, которая якобы толкает
Раскольникова на убийство, оказывается не такой уж безвыходной после
преступления. В романе ведь вообще все кончается хорошо – устроены
сироты Мармеладовых, обеспечена Дуня с Разумихиным и даже невесте
Свидригайлова перепал крупный куш.
Социальные условия не объясняют
преступления. Оно предопределено сложностью души Раскольникова. (Между
прочим, и окончательная катастрофа Мармеладова не мотивирована. В запой,
после того как, наконец, получил службу, Мармеладов ушел не под
давлением обстоятельств.)
Ничего не объясняет и нравственная
арифметика Раскольникова, которую никто в романе так и не сумел
опровергнуть. Когда герой перечисляет «законодателей и установителей
человечества», он упоминает Ликурга, Солона, Магомета и Наполеона. И тут
бросается в глаза отсутствие одного имени: нет Христа. Этим
красноречивым умолчанием Достоевский задает крайне провокационный
вопрос: а не был ли и Христос преступником – «уже тем одним, что, давая
новый закон, тем самым нарушал древний, свято чтимый обществом»?
Раскольников не включает в свой список
сверхлюдей Христа, но это не значит, что о нем не помнит автор, что он
не видит в Сыне Божьем – создателе нового закона, новой нравственности –
прообраз своего героя.
Идеал Раскольникова – «великие гении –
завершители человечества». Чтобы стать таким «всечеловеком»,
Раскольникову нужно принять на себя грехи человеческие и тем изжить их.
Его преступление в парадоксальной этике Достоевского смыкается с
величайшей жертвой. Смертный грех – цена освобождения от истории, цена
Нового Иерусалима, в который так свято верит вольнодумец Раскольников.
«Подлый расчет» нравственной арифметики
на самом деле гораздо выше той плоской интерпретации, которую предлагает
Раскольников Порфирию Петровичу. Здесь начинается важнейшая для
Достоевского тема «Христа-преступника», которая мучила его всю жизнь и
которую он пытался решить в образах Ставрогина и братьев Карамазовых.
Старуха-процентщица действительно пала
жертвой не убийцы, а принципа, но исповедание этого принципа принадлежит
не Раскольникову, а Достоевскому.
В самой сцене убийства Достоевский
лишает Раскольникова воли. «Он попал клочком одежды в колесо машины, и
его начало втягивать». Герой должен убить, потому что он замыслил
убийство. Он должен расплатиться за всех тех, кто не решился довести до
дела неизбежные для человека помыслы. (Фрейд: «Симпатия Достоевского к
преступнику действительно безгранична. Преступник для него почти
спаситель, взявший на себя вину, которую в другом случае несли бы
другие. Убивать больше не надо, после того, как он уже убил, но следует
быть благодарным, иначе пришлось бы убивать самому».)
Весь роман, построенный на искусной
оркестровке напряжений, проходит через две кульминации, после которых
наступает катарсис. Первая такая точка – преступление. Вторая –
наказание.
Раскольников должен пройти через оба состояния, потому что Достоевскому не нужен человек, не совершивший смертного греха.
Итак, Раскольников убил не потому, что
он плохой или заблуждающийся человек. Убил он потому, что он – человек
вообще. В преступлении его первородный грех, и – залог спасения.
Преступив закон, Раскольников стал выше справедливости. Искупив вину, он
обретет братство.
Достоевский не верил в возможность
общества, построенного на праве. Закон – это суд, а суд несправедлив,
потому что он судит внешнее – поступки, а не внутреннее – душу. Однако,
поскольку душа неисчерпаема (доказательством чего служат бесконечные
психологические этюды), то и судить может только сам преступник. Это и
есть Страшный суд, в процессе которого происходит познание себя,
открытие в себе Божьего замысла о человеке. Преступление – неизбежная
доля. (Это – реализация свободы личности как единственной метафизической
основы души. Без преступления нельзя обойтись, но его можно преодолеть.
Подсудимый Раскольников – представитель
человечества. Он отвечает за всех. Поэтому в романе на самом деле и нету
этих «всех». В принципе Раскольников – единственный герой книги. Все
остальные – проекции его души.
Тут-то и находит объяснение феномен
двойников. Каждый персонаж, вплоть до случайных прохожих, вплоть до
забитой насмерть лошади из сна Раскольникова, отражает в себе частичку
его личности.
Достоевский плетет сеть двойников вокруг
Раскольникова, не оставляя его ни на минуту наедине с собой. Вот
Раскольников склонился к замочной скважине, а с другой стороны двери
зеркальным отражением стоит жертва – старуха-процентщица. Вот убийца
приходит в контору и видит писца, в котором отражается он сам – «особо
взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде».
Раскольников обречен сталкиваться с
людьми-призраками, которые высказывают ему его же мысли (Свидригайлов),
демонстрируют ему его же судьбу (Соня), предупреждают его поступки
(девушка, бросившаяся с моста).
Весь мир сгущается в одну точку, и эта
точка – Раскольников, человек-вселенная. Однако вселенная эта распалась
на бессмысленные осколки. Они все здесь – в душе Раскольников, но он не
может собрать их воедино. Его вселенная лишена целостности, лишена
смысла, пока он не откроет высший закон, высшую истину, по которым
строятся вселенные. Пока он не выслушает приговор, который вынесет сам
себе. (Разве не поразительно, что о вине Раскольникова не знает только
ленивый, но никто не берет на себя труд разоблачения. Не потому ли, что
на самом деле никого больше в мире и нет? Только Раскольников наедине с
самим собой и своим преступлением.)
Раскольников читает газету в трактире:
«Излер – Излер – Ацтеки – Ацтеки – Излер – Бартола». Бессмысленность
текста – это образ разъятой вселенной. Раскольников мечется в попытках
сложить мир, вернуть ему смысл. Вставить пропущенные слова в газетном
объявлении. Но обрести покой можно только в мире, открывшем истину.
Необъяснимо долог путь Раскольникова к
наказанию. Каждый раз в минуту последнего отчаяния, автор дает герою
передышку, вводя новых персонажей и новые обстоятельства. То мать с
сестрой приедут и надо как-то решить их судьбу, то Мармеладов умрет и
можно облегчить душу погребальными хлопотами, то появится Свидригайлов,
от которого надо спасти сестру.
Эти помехи – замедление перед развязкой –
имеют косвенное отношение к фабуле. Тем не менее, Достоевский заботливо
насыщает мир Раскольникова все новыми персонажами.
Герои книги топчутся на маленьком
пятачке Петербурга. Мало того, они все – соседи, живущие чуть ли не в
коммунальной квартире – в одних и те же «нумерах», на одних и тех же
улицах. (Не есть ли это пародия на модную тогда идею
коммуны-фаланстера?) С анекдотическим постоянством они «случайно»
встречаются Раскольникову.
Все они нужны для суда. Каждый –
свидетель. Каждый несет свою частичку правды о мире, но полностью эта
правда не воплотилась ни в ком.
Вокруг Раскольникова нет чужих людей.
Все они имеют к нему отношение. Но нет тут и своих. Чтобы разноголосица
романа слилась воедино, нужно гармонизировать микрокосм, который
называется Раскольников. Как внести в хаос высший порядок?
Достоевский как раз и занят этой
проблемой – прорабатывает варианты. Раскольников судит себя, глядя на
свои ипостаси. Соня – со всей жестокостью ее бесконечной, нерассуждающей
доброты. Свидригайлов – тонкий реалист, которого диалектика
неразличения добра и зла довела до смертельной скуки. Порфирий Петрович –
дьявол-искуситель (он еще появится у Достоевского в виде черта Ивана
Карамазова), который олицетворяет идею земной справедливости, идею
возмездия, но не правды.
Все они вольготно расположились в душе
Раскольникова. Каждый из них знает о его преступлении (еще бы – ведь они
же и есть сам Раскольников), но ни один из них не может решить дело
наказания. Они противоречат друг другу, чем затягивают следствие. Суд
все идет и все не видно ему конца...
Ситуация суда, так остро введенная
Достоевским в современную литературу, стала центральной для многих
лучших книг XX века – Кафки, Камю, Булгакова. В первую очередь у
Достоевского брали именно прием разделения большой Истины на малые –
верные, но не исчерпывающие.
И тут интересно взглянуть на «Мастера и
Маргариту», где участники процесса над человеком расположились так же,
как в «Преступлении и наказании». (Эта аналогия вполне естественна, если
вспомнить, что оба романа восходят к общему для всей нашей классики
источнику – Евангелию.)
Роль Порфирия взяли на себя Воланд с
Коровьевым – все тот же принцип справедливости, за который отвечает
ведомство сил зла. Соня – это Иешуа с его ослепительным и безжизненным
светом добра. Свидригайлов – это, конечно, Пилат, мудрец, знающий цену
добру и злу и не желающий выбирать между ними. (Как заманчиво заметить в
речи Свидригайлова совершенно случайное упоминание о «проконсуле в
Малой Азии» и представить себе Булгакова за чтением этой страницы.)
Но если подсудимый у Булгакова Мастер с его романом, то где же писатель у Достоевского? Не Раскольников ли?
Русская литература не брала писателей в
герои, хотя и заигрывала с этой темой. Писателями, в полном смысле, не
были ни Онегин, ни Печорин! Ими не были и Пьер Безухов, и Левин из «Анны
Карениной». Строго говоря, конечно, и Раскольникова писателем не
назовешь. Литература казалась слишком низким, слишком эстетским выходом.
Однако есть одна странность в
«Преступлении и наказании» – финал книги. К концу нарастает напряжение,
которое отнюдь не мотивировано новыми сюжетными ходами. Незачем
Раскольникову идти сдаваться. Что бы там ни говорили искушающие героя
голоса, суд кончается ничем: «я не знаю, для чего иду предавать себя».
Зато это знает автор. Кажется, он нашел
выход из ловушки, в которую загнал Раскольникова. Последние перед
эпилогом страницы зазвучали внезапно оптимистически. Раздавленный
Раскольников вдруг кричит сестре: «Я еще докажу», «ты еще услышишь мое
имя». С чего бы это? И чем заслужил Раскольников отзыв Свидригайлова:
«Большой шельмой может быть, когда вздор повыскочит»?
Совершенно неожиданно в финале всплывает
газетная статейка Раскольникова, которая до этого была лишь уликой,
разысканной дотошным Порфирием. И вот статейка эта превратилась в залог
громадного литературного таланта Раскольникова, которым бредит его мать.
Но совсем уж странен последний диалог в
романе – разговор героя с чиновником Порохом о литературной карьере
Раскольникова. В этой нелепой беседе Порох предлагает пародийное, но
отнюдь не маловажное объяснение всего происшедшего: «Да кто же из
литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов!»
Дикая неуместность этого внезапно
появившегося мотива литературной одаренности Раскольникова кажется
насилием над сюжетом. Впрочем, не большим насилием, чем наступившее в
эпилоге прозрение Раскольникова.
Достоевский тогда освободил
Раскольникова от суда, когда нашел для него занятие. Когда обнаружил
способ собрать мир воедино, примирить все голоса в одном – писательском.
Не себя ли увидел Достоевский в осужденном и прощенном Раскольникове?
Не в свое ли понимание души как микрокосма, личности как прообраза
всемирного братства, посвятил автор героя?
У Раскольникова есть будущее. Он сумел
проникнуть в бездны своей души, сумел вместить всех в себе, сумел решить
противоречие единого и всеобщего. Его суд кончится тем, что он всё
поймет и всех примет – как на Страшном суде, о котором вещал пьяненький
Мармеладов: «Тогда всё поймем!., и все поймут...»
Раскольников – не писатель, который
пишет литературу. Но и сам Достоевский не был таким писателем. О том,
кем он себя считал, можно судить по его записной книжке: «Предположить
нужно автора существом всевидящим и непогрешающим».
А если мы ужаснемся кощунственным этим
притязаниям, то вспомним, как Достоевский писал о Пушкине, о его
«всечеловечной и всесоединяющей» душе, о его великом даре – «вместить с
братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и
изречь окончательно слово великой, общей гармонии, братского
окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».
В представлении Достоевского, в его
бескомпромиссной проповеди вечной жизни, писатель сливается воедино с
Богом, как Бог слился с человеком во Христе. Чтобы постичь эту истину,
человеку Достоевского надо пройти через мучения разъятого мира, через
искушение бесчисленных двойников, дойти до последних ступеней падения и
выйти с другой стороны – к другой, высшей морали, выйти к Страшному
суду, где не будет проклятых – одни прощенные.
В библейских пророчествах книга
символизирует полноту знания о человеке. О Страшному суде там сказано:
«Судьи сели, и раскрылись книги». Вот такие книги писал сам Достоевский и
звал этим заниматься Раскольникова.
| 
 УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ