1 Если
вам двенадцать лет и вы еще не читали ни одной страницы замечательного
англичанина Герберта Уэллса, то я вам, во-первых, не завидую – потому
что вы прожили уже немало лет без тех особенных чувств, которые
охватывают того, кто читает «Хрустальное яйцо», «Новейший ускоритель»,
«Дверь в стене» или «Человека-невидимку». А во-вторых – завидую. Потому что все это у вас впереди! Вот
один герой изобрел ускоритель и ради эксперимента принял его вовнутрь
вместе со своим товарищем. Правда, он не забыл предупредить его о
необходимости ряда предосторожностей, потому что «вы и не заметите
резкости ваших жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг
вас как бы замедлит ход». И
действительно. «Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим
облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью
догонял мчащийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл
рот от изумления при виде этого невероятного зрелища». Друзья выбежали из дома – и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы... « – Бог мой! – вдруг воскликнул Гибберн. – Посмотрите-ка! Там,
куда он указывал, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась
со скоростью медлительнейшей из улиток – кто бы вы думали? – пчела! <...>Люди
вокруг кто стоял навытяжку, кто, словно какое-то несуразное немое
чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо
пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть
шевеля лапками в воздухе. – Смотрите, смотрите! – крикнул Гибберн». И
оба они уставились на щеголя, «который оглянулся назад и подмигнул двум
разодетым дамам. Подмигивание – если разглядывать его не спеша, во всех
подробностях, как это делали мы, – вещь малопривлекательная.... Вы
вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под
опущенного века видна нижняя часть глазного яблока. – Отныне, – заявил я, – если Господь Бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать. – А также и улыбаться, – подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам». Как
они выходили из своего ускорения (а у них от бешеной скорости уже
начали дымиться брюки!) и как висевшая неподвижно в воздухе соседская
«болонка, которая вечно лает» (Гибберн вознамерился зашвырнуть ее куда
подальше), шмякнулась вдруг на зонтик одной из дам и прорвала его, – об
этом вы, надеюсь, прочитаете сами. А
«Первые люди на луне» – вообще одно из самых сильных впечатлений моего
детства. Не только необычайно увлекательно – там немало печального, даже
щемящего. И мне, не скрою, было грустно, когда люди – и американцы, и
мы, – добрались до Луны. И с тех пор, когда подымаешь лунной ночью
голову и смотришь на таинственное светило, – уже точно знаешь, что там
нет живых существ. А Уэллс в детстве заставил меня поверить в них. И,
конечно же, – «Человек-невидимка». Сколько потрясающих приключений! И
никакое кино не заменит словесного описания финала, когда всей толпой
добивают невидимого человека... Доктор Кемп «опустился на колени возле
невидимого существа... Кемп водил рукой, словно ощупывая пустоту. – Не дышит, – сказал он. – И сердце не бьется. Бок у него... Ох! Какая-то старуха, выглядывавшая из-под локтя рослого землекопа, вдруг громко вскрикнула: – Глядите! – сказала она, вытянув морщинистый палец. 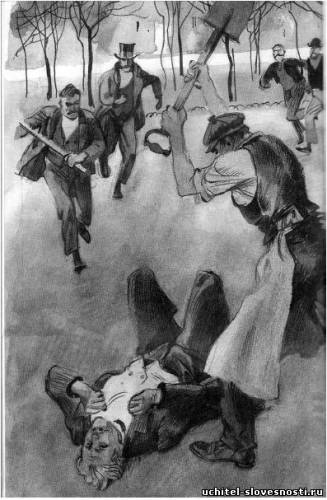
И,
взглянув в указанном ею направлении все увидели контур руки, бессильно
лежавшей на земле; рука была словно стеклянная, можно было разглядеть
все вены и артерии, все кости и нервы. Она теряла прозрачность и мутнела
на глазах...» 2 «Год
тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи
закопченная лавка... Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал
пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры,
четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа
тигра и один человеческий...» Среди прочего – «несколько засиженных
мухами страусовых яиц...» И главное (как выясняется постепенно) – «среди
всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и
прекрасно отшлифованный». Вокруг него-то и развивается все действие – и сам рассказ называется «Хрустальное яйцо». Дело в том, что владелец лавки заметил – яйцо в полной темноте слабо фосфоресцирует. И
однажды, «поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В
глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед
ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны». В следующий раз «что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной». Дальше
– пуще: «Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников,
а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то
странные существа, похожие на огромных, раздавшихся в ширину жуков. За
лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще
дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по
берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в
воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и
лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой
разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером
Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного
драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть
лица, с огромными глазами – увидел его так близко от себя, точно их
разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью
этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от
своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке,
пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно
озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем
погасло». Но не насовсем. «Таковы
были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со
всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в
хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того как он
обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он
вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее
вернуться к своему новому занятию». А дальше, естественно, все очень осложняется... 3 В
1908 году Герберт Уэллс, никогда не бывавший в России, писал о ней так:
«Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко;
где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где
деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми
красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и
терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие
дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не
знаю, может быть все это и не так; хотел бы я знать, так ли». ...Проехав
сто лет спустя всю Россию от Владивостока до Москвы на машине, я
вынуждена сообщить своим юным читателям, что кое-что и сегодня – именно
так. Что же касается слов «много икон»,
надо иметь в виду, что для англичанина, с детства привыкшего к витражам
в своих соборах, – это черта именно православных церквей. Когда
в 1920-м году Уэллс приехал в Россию, только что пережившую революцию и
Гражданскую войну – то и другое погрузило страну в разруху, – его
вполне реалистические описания увиденного напоминают едва ли не картины
Англии во время и после нашествия марсиан. Смотрите сами: «Впереди,
насколько хватало глаз, вся дорога от Лондона казалась сплошным
клокочущим потоком грязных и толкающихся людей, катившихся между двумя
рядами вилл». И через несколько дней после нашествия: «Здесь тянулась
извилистая улица – нарядные белые и красные домики, окруженные тенистыми
деревьями. Теперь я стоял на груде мусора, кирпичей, глины и песка...
Окрестные дома все были разрушены... стены уцелели до второго этажа, но
все окна были разбиты, двери сорваны. ...По стене одного дома осторожно
спускалась кошка; но признаков людей я не видел нигде. Повсюду виднелись
следы разрушения. Порою местность была так опустошена, как будто здесь
пронесся циклон...» («Война миров», 1897). Нечто в этом роде видит Уэллс в опустевшем – еще недавно столичном – огромном российском городе: «Дворцы
Петрограда пусты и безмолвны или же вновь омеблированы чуждой им
обстановкой – пишущими машинками, столами и полками новых
административных учреждений... Улицы Петрограда раньше были полны бойко
торгующими магазинами... Все эти магазины не существуют больше». Теперь
они «имеют совершенно жалкий и запущенный вид; краска облупилась,
витрины потрескались, некоторые сломаны и забиты досками... стекла
помутнели; на прилавках собралась двухгодичная пыль. Это – мертвые
магазины». Мостовые «в ужасающем состоянии. Их не исправляли в течение
трех-четырех лет, они полны ям, как будто вырытых снарядом, иногда в
два-три фута глубиной. Трещины образовались от мороза, дожди их размыли;
люди вынимают деревянные торцы мостовой, чтобы топить ими печи... Все
люди оборваны... Когда идешь по какому-то переулку в сумерках и ничего
не видишь, кроме плохо одетых фигур, которые все куда-то спешат...
получаешь впечатление, что все население готовится к бегству. И это
впечатление не вполне ошибочно. ...Численность петроградского населения
пала с 1 200 000 (до 1919 г.) до семисот тысяч с небольшим и продолжает
падать: многие вернулись в деревню, к крестьянской жизни, многие
пробрались за границу, но больше всего погибло людей от нужды и тяжелых
условий жизни» («Россия во мгле», 1920). А
когда во время личной встречи с Лениным Уэллс стал допытываться у него:
«Что, собственно, по вашему мнению, вы делаете с Россией? Что вы
стараетесь создать?» – то есть, за что же вы платите такую непомерную
цену? – Ленин вместо ответа задавал свои вопросы: «Почему социальная
революция не началась еще в Англии? Почему вы ничего для социальной
революции не делаете? Почему вы не разрушаете капитализма и не
устанавливаете у себя коммунистический строй?..» 4 Я
стала перечитывать «Войну миров» – и так же, как в детстве, она
поразила меня правдоподобием всех описаний. Просто поверить невозможно,
читая этот роман, что марсиане никогда (пока!) не высаживались на Земле! «Большая
сероватая круглая туша, величиной, пожалуй, с медведя, медленно, с
трудом вылезала из цилиндра. Высунувшись на свет, она залоснилась, точно
мокрый ремень. Два больших темных глаза пристально смотрели на меня. У
чудовища была круглая голова и, если так можно выразиться, лицо... Тот,
кто не видел живого марсианина, вряд ли может представить себе его
страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот с выступающей
верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка
под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальцы,
как у Горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, неповоротливость и
затрудненность в движениях – результат большой силы притяжения Земли, –
в особенности же огромные пристальные глаза – все это было омерзительно
до тошноты». Любопытно – сразу ясно,
что это написано в конце позапрошлого века. В сегодняшнем цивилизованном
мире вот этот ход мысли – «очень непохоже на нас, следовательно –
омерзительно», – уже, как говорится, не котируется. Мир (правда, далеко
не все люди!) выучился относиться к непохожему терпимо (толерантно). «Войну
миров» прочесть надо обязательно. А если захочется сгладить тяжелое
впечатление – поскорей открывайте «Дверь в стене». Там маленький мальчик
открыл зеленую калитку в белой стене в переулке, вошел – и попал в иной
мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом... «Длинная широкая
дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не
охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со
мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в
их пушистую шерсть, гладил их круглые уши... Казалось, они
приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело
радостное чувство, что я наконец вернулся домой». И дальше эта зеленая
дверь то появляется в его жизни, то исчезает... Между
прочим, помимо всем известного поразительного дара выдумки, Уэллс
обладал умением видеть и описывать зрительный облик реального предмета.
Это особо отмечено было его соотечественником – другим замечательным
английским писателем, о котором мы скоро будем с вами говорить отдельно.
Это Гилберт Честертон – тот самый, который подарил нам рассказы о
патере Брауне. Так вот, он, бывши свидетелем спора Уэллса о том, что
«все относительно», рассказывает, что «Уэллс сказал, что лошадь красива
сбоку, но очень уродлива сверху: тощая, длинная шея и толстые бока, наподобие скрипки». Ведь и правда похоже. 
|

 УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ